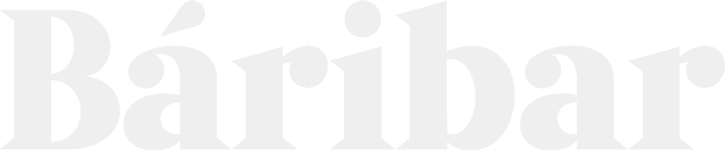В июне 1848 года, в Париже, на улице Нотр-Дам-де-Лоретт родился мальчик, которого назвали Поль. Это был Поль Гоген. Ему суждено было стать одним из величайших и загадочных художников XIX века.
Свое короткое, но счастливое детство Гоген провел в Перу, в городе Лиме. Туда в 1849 году бежали его родители от волнений французской столицы. Этот солнечный город отложил отпечаток на всю жизнь художника. Скитаясь по миру, нищенствуя и безуспешно пытаясь заработать себе на жизнь живописью, Гоген искал именно этот рай, именно это счастье, которое ему довелось пережить в детстве – и не нашел его.
Пальмы, магнолии, ламы с “лебедиными шеями”, ястребы, сидящие на крышах домов, африканцы, азиаты, индейцы: разноцветные люди – все это было реальностью для маленького Поля. Эту реальность ему и пришлось покинуть в 1855 году. Что же, рая его лишили, так он найдет его сам. И малыш Поль становится матросом, поступает на торговое судно учеником лоцмана.
В молодости он служил в торговом флоте — плавал через Атлантику на парусных кораблях, лазал по вантам, висел над штормовым океаном на огромной раскачивающейся мачте. Гоген ушел в море простым матросом и дослужился до лейтенанта. Затем был боевой корвет “Жером Наполеон”, исследовательские плавания в северных морях и война с Пруссией.
Пять лет, посвятил Гоген океану и понял, что это была ошибка. Южная Америка, Патагония, Полинезия, Генуя, Лиссабон и даже Лондон – все эти страны и города оставались за бортом. Он мог сойти на берег, но не мог там остаться. Он был пленником океана и невзлюбил его за это. Постоянные скитания по многочисленным морям земного шара не приносили успокоения. Ни на йоту он не приблизился к своей мечте, к своему раю.
Через семь лет Поль Гоген был списан на берег. Берег, на который сошел Гоген, искрился всеми цветами радуги: ярко-зеленые листья пальм, блестящая, как расплавленная сталь, вода и разноцветные тропические плоды сливались в фантастическую ослепительную феерию, собственное полотно, легко, без усилий вошел в тот мир.
Уже тогда, будучи моряком, Поль рисовал в часы досуга. Тогда он не придавал этому особого значение, он делал это скорее от скуки, чтобы убить время.
В конце 60-х годов умерла Алина, мать Гогена. Юный моряк остается круглым сиротой, отец – Кловис Гоген – умер, когда художнику не было и двух лет. Старшая сестра Мария не испытывала особо нежных чувств к своему брату, поэтому единственными другом Гогена в то время была семья Ароза, и в частности сам Гюстав Ароза – близкий друг Алины. Он и устроил Поля на биржу.
Молчаливый, замкнутый юноша многим казался высокомерным и неприятным. Он не нашел друзей и единомышленников среди коллег. И теперь, облачившись в элегантный костюм и цилиндр, он не переставал мечтать о далеком экзотическом рае. Его серо-зеленые глаза под тяжелыми веками всегда были подернуты легкой поволокой, и смотрели как будто не прямо на собеседника, а куда-то сквозь него.
Плоскостность, монументальность, обобщенность в творчестве поля гогена
Квадратная столпообразная ваза была изготовлена, видимо, как и другие керамические скульптуры Гогена, в мастерской Шапле в Париже, в промежутке между двумя поездками на Таити, предположительно зимой 1894— 1895 годов. Гоген создал три варианта данной формы, отличающиеся друг от друга рядом незначительных деталей.
Квадратной керамической вазе предшествовал деревянный, выдолбленный изнутри, цилиндр, исполненный во время первого пребывания на Таити.
Гоген выставил его в ноябре 1893 года на своей знаменательной персональной выставке у Дюран-Рюэля. Деревянный цилиндр, так же как и сделанную по его мотивам квадратную керамическую вазу, украшал рельеф, изображающий таитянских богов — Хину и Тефатоу. Должно быть, экзотический сюжет деревянного цилиндра, подобно двум картинам первого таитянского периода на темы островных преданий с туземными персонажами, также экспонированными у Дюран-Рюэля,— Дух мертвых не дремлет и Прекрасная земля,— вызвал живой интерес, что и побудило Гогена размножить эти композиции в гравюре и керамике.
Темой рельефного изображения деревянного цилиндра и аналогичной ему керамической вазы является диалог Хины и Тефатоу, почерпнутый Гогеном из книги Меренхута и рассказов островитян,— кульминационный пункт таитянской космологии. Беседа богини Луны Хины со своим возлюбленным сыном, богом Земли и всего живущего на ней Тефатоу — диалог о жизни и смерти, о судьбе человеческого рода, участь которого предрешена. Этот космический диалог пересказан Гогеном в его рукописи «Древний культ маори» и включен в книгу «Ноа Ноа».
«Хина сказала Тефатоу: «Воскреси человека, когда он умрет». Тефатоу отвечает: «Нет, не стану я его воскрешать. Земля умрет; растения умрут; они умрут так же, как и люди, которые ими питаются; сама почва, что породила их всех, умрет. Земля должна умереть; земля должна кончиться; земле придет конец, и она никогда не возродится вновь». Отвечает Хина: «Делай, как знаешь: но я возрожу Луну». Все то, что принадлежало Хине, продолжит существование: все то, чем владел Тефатоу, обратится в прах, и человек должен умереть».
Предмет, интонации и пророчество мифического таитянского диалога оказались чрезвычайно близкими Гогену, полностью отвечали его мрачным настроениям и предчувствиям накануне отъезда на Таити. Он вернется к этой теме и в последние годы жизни, создав знаменитое панно «Откуда мы?..» и серию связанных с ним полотен. О значении, которое придавал сам Гоген рельефному изображению на деревянном цилиндре, свидетельствует тот факт, что он избрал верхнюю его часть в качестве сюжета для гравированной обложки каталога своей выставки у Дюран-Рюэля. Гравюра сопровождалась надписью Parau Hina Tefatou (Беседа Хины с Тефатоу), что не оставляет ни малейшего сомнения в истолковании сюжета рельефных изображений на вазах.
По воспроизведениям известен рисунок Беседа Хины с Тефатоу, местонахождение которого неизвестно. Он непосредственно связан с композицией рельефа деревянного цилиндра и репродуцирующей последний керамической вазы. Неясно, выполнен он до или после создания резного изображения, но само его наличие свидетельствует о пристальной разработке Гогеном именно данного иконографического варианта, рассчитанного на воспроизведение в скульптуре. Композиционные схемы Беседы Хины с Тефатоу включены Гогеном в качестве иллюстраций к рукописи «Древний культ маори», написанной в 1891—1892 годах. Во всем цикле акварелей к данному тексту Гоген ищет декоративные приемы, близкие к таитянским резным и ювелирным украшениям. Диалог Хины и Тефатоу на цилиндре исполнен, по всей вероятности, позже акварелей к рукописи «Древний культ маори» и является следующим шагом Гогена на пути создания нового пластического языка, близкого к формам первобытного искусства.
Не случайно в каталоге последней выставки этот рельеф назван самым «диким, варварским» из всего, что было показано в 1893 году у Дюран-Рюэля. Большеголовые фигуры Хины и Тефатоу, прижавшихся друг к другу лбами и сидящих на корточках, напоминают резных маркизских божков с рукоятей весел. Рука Хины, как бы вопрошающая Тефатоу, похожа скорее на лапу с клешнями, а ее грудь имеет причудливую тыквообразную форму. Гогена поразила мощная варварская выразительность полинезийских предметов домашнего обихода — сосудов для воды, выдолбленных из тыквы, резных столиков для трапезы, подвесных украшений, весел, орудий труда. Их пластика по-своему претворилась в рельефах с изображением Хины и Тефатоу, но решение Гогена далеко от простой имитации таитянского декора. В скульптурных образах гогеновских ваз возник удивительный сплав туземных форм с изысканной европейской фантазией и лиризмом, открывший путь к рождению лапидарного знакового стиля XX века. Не случайно резной цилиндр с диалогом Хины и Тефатоу на первой большой ретроспективе Гогена в Париже в 1906 году поразил своей абсолютной новизной будущего крупнейшего скульптора нашего столетия Бранкузи, создавшего вскоре по его мотивам свою знаменитую группу Влюбленных, в свою очередь, вдохновлявшую впоследствии великого Генри Мура. Так, от небольших по размерам, «прикладных» по жанру скульптур Гогена начинается путь эволюции монументальной пластики современности.
Возвращение Гогена во Францию и его вторичный отъезд на Таити следует рассматривать как решающий перелом в жизни художника. Первый раз он ехал за новыми впечатлениями, второй он раз он уезжал навсегда. Вернувшись к жизни, Гоген создал несколько картин-панно меньшего размера и с меньшим числом фигур, в которых слышались отзвуки идей «Откуда мы, кто мы…» Последний яркий всплеск мажорного и жизнеутверждающего настроения в творчестве Гогена — картина «Две таитянки».
творчество п. Гогена о религии
На картине из Копенгагена традиционные Адам и Ева под древом познания добра и зла с обвившимся вокруг него змеем, держащим в пасти красный плод, помещены в переливающийся всеми красками «околдованный» пейзаж. Синева неба, просвечивающего сквозь листву, кажется почти прозрачной, как бы написанной на стекле таинственным фосфоресцирующим светом сияет среди зелени травы розовое пятно, оттеняющее противоестественную белизны мерцающего, как звезда, цветка. Этот дьявольский цветок искушения, притягивая к себе, как бы указует на фантастического белоглазого лиса, перестилающего посреди разбросанных по земле рядом с Евой красных плодов вожделения. Белый цвет несет в Адаме и Еве особую символическую нагрузку: и также обозначена и красноклювая птица у ног Адама — дьявольский спутник греха. Лис и экзотическая птица, на сей раз с ярко-зеленым оперением, фигурируют вместе еще в одной довольно загадочной работе Гогена 1902 года. Житель Маркизских островов в красном плаще, известной под названием Волшебник с Хиваоа. И этой картине «спутники греха» (при этом лис хватает экзотическую птицу за крыло), также отмеченные белым пятном цвета, сопровождают таинственную фигуру длинноволосого туземца с женской прической.
Ящерица рядом с белой птицей фигурирует и в картине Адам и Ева, здесь она, похожая скорее на хищного гладкого длиннохвостого зверька, карабкается по корням древа познания добра и зла.
За сценой грехопадения наблюдает маленький ангел с пухлым белым телом, выглядывающий из листвы в верхнем правом углу картины. По контрасту с золотистым «туземным» загаром Адама и Евы он изображен белокожим и напоминает пухлых деревенских резных и лепных ангелочков из провинциальных европейских церквей. Его присутствие в этой картине, которое Амишай-Майзелс связывает с влиянием на Гогена «Потерянного рая» Мильтона, вносит даже в это позднее полотно, созданное незадолго перед смертью, свойственный творчеству Гогена иронический оттенок.
И, однако, все дополнительные, иллюстрирующие сцену грехопадения персонажи в данном случае играют второстепенную роль, лишь оттеняя своим присутствием двух главных героев картины — Адама и Еву. Темнокожая туземка Ева, возможно с портретными чертами Ваеохо (четырнадцатилетней последней наложницы Гогена), предстоит в позе первой таитянской возлюбленной художника из картины Слова дьявола: она вожделеет греха и бесстрашно смотрит в глаза грядущему в отличии от своего напуганного, дрожащего от ужаса прототипа. Напротив, Адам, отвернувшись от Евы, уходит прочь: он уже потерял рай, но не потому, что свидетелем грехопадения был маленький белокожий ангелочек. Адам изгоняет себя из рая сам: туземный Эдем для него больше не существует. Обращает на себя внимание удивительное сходство профиля и наклона головы Адама с автопортретными рисунками позднего Гогена: один такой рисунок нашли в хижине художника после его смерти. Адам и Ева — зашифрованный предсмертный автопортрет Гогена, в чем заключается особый драматизм этой поздней версии грехопадения. Гоген-Адам покидает рай ради ожидаемой и неумолимой смерти. «Великан — ты смертей, и этого достаточно, чтобы тебя унизить. Проблема, которую стараемся разрешить,— легка вначале, сфинкс — когда ты при смерти». Мысли о смерти и естественном отказе от наслаждений присутствуют в этой картине. Извечная проблема гогеновского мифа — мотив искушения находит свое разрешение только в смерти. Отсюда глубокая человечность, искренность и, одновременно, меланхолия полотна Адам и Ева. В этой поздней композиции угадываются настроения и мотивы, удивительно роднящие с ней некоторые картины Пикассо голубого периода, например, знаменитое полотно «Жизнь 1903 года».
Именно природа, натура или, как пишет Гоген, — «материя» дает, по его мнению, почву для наиболее смутных, наиболее неопределимых ощущений художника, именно на знании материи должна основываться и наука гармонии. Разнообразие природы вовсе не воспринимается художником как «вещь в себе», не поддающаяся познанию. Напротив, задача художника — самым тщательным образом изучить натуру и уметь отобрать в ней то основное, что, будучи перенесено на полотно, создаст впечатление ее живописного эквивалента. Эта мысль проходит и через письма, и через все литературные произведения Гогена. «Ведь у вас меньше средств, чем у природы, и вы осуждаете себя на то, что лишаетесь всех тех средств, что природа предоставляет в ваше распоряжение. Будет ли у вас когда-нибудь столько света, как в природе? Столько жара, как у солнца?» — полемизирует Гоген в своих «Синтетических записках» с критиками, которые проповедовали непреклонную верность натуре. И поскольку природа всегда грандиознее любых замыслов человека и в ее арсенале гораздо больше средств, чем в распоряжении художника, это дает ему право на преувеличения, трансформации, деформации натуры, необходимые для выявления основной идеи. Произведение искусства оперирует не теми средствами, что природа, цвет и линия — это условные элементы, не способные перенести кусок природы на полотно или дерево, а потому искусство должно подчиняться своим законам — настойчиво доказывает Гоген, постоянно возвращаясь к этой мысли.
Отсюда нападки Гогена на «правильный» академический рисунок, не выявляющий характер предмета, а, напротив, в поисках только внешнего правдоподобия сглаживающий его особенности и доводящий изображаемые формы до идеальных образцов, лишенных жизни и какого бы то ни было своеобразия. Отсюда требование полного слияния рисунка и цвета, их взаимообусловливающей зависимости, исключающей отношение к цвету как к второстепенному элементу, лишь дополняющему рисунок. Отсюда и поиски «стиля», в котором был бы достигнут синтез рисунка и цвета, поиски, приведшие к созданию понт-авенской школы — по имени бретонского городка, где жил художник.
Понтавенская эстетика сложилась не случайно и не внезапно, и не все в ней было связано только с Бретанью, хотя основные ее принципы и оформились именно в Понт-Авене и Ле Пульдю. Так, например, понт-авенская программа теснейшим образом связана с тем увлечением японским искусством, которое охватило французских художников в середине XIX столетия после нескольких парижских выставок японской гравюры и которое оказало сильнейшее влияние и на Гогена. Японское искусство с его принципиально новой для европейцев декоративной системой, цветовой гаммой, своеобразной фантазией внесло, свежую струю во французскую живопись. Под влиянием плоскостно-декоративных композиций, характерных для японской гравюры, необычных ракурсов, нарушающих принятое в европейской живописи построение пространства и. объемов, возникает так называемый японизм, или клуазонизм. В подражание японской гравюре каждая фигура или предмет в картине обводились четкой контурной линией рисунка, которая отгораживала одно изображение от другого, превращая каждое из них в самостоятельное замкнутое целое, окрашенное соответствующим локальным цветом. Это сочетание отдельных плоскостных цветовых зон, напоминавшее средневековые витражи или перегородчатые эмали, получившее название клуазонизма, стало одним из основных элементов понт-авенской программы.
Перенося функции света на цвет, художник отказывается от классической светотеневой моделировки, валеров, нюансов и моделирует объемы цветовыми плоскостями. Вместо отдельных мазков чистого цвета — сопоставление крупных зон гладко наложенного цвета, совпадающих с формой предмета. Слова Гогена о том, что квадратный сантиметр зеленого, помещенный в центре бильярдного сукна (то есть большой площади зеленого), более зеленый, чем квадратный сантиметр того же цвета, взятый изолированно, — отнюдь не парадокс, а закономерный элемент его стройной эстетической системы, в которой цвет играет одну из основных ролей.
Говоря о своем новом понимании задач искусства, нашедшем выражение в понт-авенской эстетике, Гоген постоянно подчеркивает, что в основе его поисков лежит стремление воссоздать внутреннюю правду натуры, не выявляющуюся при простом ее копировании. Но чтобы не навязать природе несуществующие формы, художник, по мнению Гогена, должен полностью овладеть материалом и быть его хозяином.
Поиски новых изобразительных средств, способных воплотить какие-то иные стороны действительности, до сих пор скрытые от зрителя, побудили Гогена отказаться и от искусства классической Греции, и от искусства Возрождения, обращавшегося к тому же античному прошлому с его эстетическими нормами. Отказу Гогена от искусства классической Греции немало способствовал тот факт, что каноны, сложившиеся в Греции в Vв. до н. э. и прочно вошедшие в европейское искусство, были опошлены представителями салонно-академической живописи и приспособлены ими ко вкусам буржуазного общества XIX в. Искусству классической Греции с его образом идеального человека Гоген противопоставляет искусство архаической Греции, тесно связанное с народной фантазией, нашедшей отражение и в греческой мифологии. Именно поэтому в искусстве архаической Греции художник видит некоторые черты, роднящие его с искусством Древнего Египта, Камбоджи, Индии, Японии. Геометрический стиль, лежащий в основе схематизированного изображения человека, характерный для древнегреческих росписей, Гоген находит и в архаическом полинезийском искусстве.
Проблема возникновения нового стиля, связанного с понт-авекской программой, еще до недавнего времени вызывала среди историков искусства бурные споры относительно того, кого же из двух художников — Гогена или Бернара — следует считать создателем понт-авенской эстетики. Сейчас уже мало кто сомневается в том, что вдохновителем и фактическим главой понт-авенского направления был Гоген. Именно его «уроки» о максимальной интенсивности цвета, воплощенные в «Талисмане» Поля Серюзье (картине, написанной под не посредственным руководством Гогена), были приняты группой молодых художников — будущих наби — в качестве определенной программы.